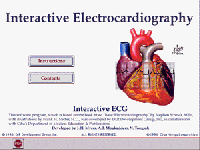«Без качественных исследований медицина будет отмирать и возвращаться на уровень нулевых, 90-х, 80-х»
Он добавил, что если этого не будет, то в какой-то момент навыки, которые российские специалисты могут передать друг другу, закончатся. Тогда нужно будет откуда-то их черпать. Кащеев уверен, что в медицине не может быть патриотов или антипатриотов. Если врачу надо спасти человека, то ему всё равно, кто сделал оборудование, которое помогает ему это сделать.
«То, что происходит, безусловно, стресс. Для меня в известной степени. Но одна из вещей, которая меня держит, это, конечно, профессия. Врачи — люди, которые имеют внутри себя нравственный стержень. И он крепче, чем многое, даже ужасное, что происходит вокруг нас», – заключил доктор.
Подробнее – в интервью «Правмиру».
— Алексей, вопрос, который всех сейчас волнует: что будет с медициной?
— Определенно ничего ужасного и катастрофического не будет. Система здравоохранения любой страны обладает достаточно большим запасом устойчивости — это во-первых.
Во-вторых, как мы убедились в период ковида, российская система здравоохранения обладает лучшим умением реагировать на острые ситуации, чем на хронические. Она лучше умеет развертывать госпитали, чем обеспечивать производство лекарств для детей с орфанными заболеваниями.
Так что медицина будет, никуда не денется. Но условия, в которых мы находимся, несомненно, меняются. Не в сторону чего-то ужасного, а в сторону усложнения процесса.
Медицина, по всем представлениям западного мира, а мы живем в западном мире, хотим мы этого или нет, — гуманитарная и транснациональная.
Именно поэтому нигде, насколько я знаю, не вводились санкции против ввоза лекарственных средств, медицинского оборудования, расходных материалов. И сейчас в Россию это все тоже ввозится.
Но, во-первых, все стало дороже, причем зачастую кратно дороже. Во-вторых, появилась проблема логистики. Большинство транспортных хабов, которые ввозят медицинскую расходку, находятся в Европе. Из нее сейчас физически не может выехать машина, поэтому логистические цепочки усложняются, разрываются. Это удорожает конечный продукт для потребителя: коим является в государственной медицине — государство, а в частной медицине — пациент или страховые компании.
— Уже были сообщения, что есть перебои с поставками лекарств, но они в основном не подтвердились. Медицинские компании продолжают поставки жизненно важных препаратов?
— Ресурс жизненно важных препаратов сформирован примерно на 8–12 месяцев, так говорит нам Минздрав, в данном случае у меня нет никаких оснований ему не доверять. Я не видел исчезновения жизненно важных препаратов ни из нашей клиники, ни из [клиник] коллег.
Сейчас периодически бывают сложности именно с поставками — вдруг оказывается, что что-то вот-вот кончится. Но эти проблемы всегда решаемы, это именно логистические сложности.
В более трудной ситуации находятся люди, работающие с дорогостоящими препаратами, которые в России либо в принципе не производятся, либо производятся исключительно из иностранных субстанций. Это препараты для лечения онкопатологии, некоторые моноклональные антитела, препараты для лечения орфанных заболеваний.
Вот тут ситуация действительно сложна, потому что потребность в таких препаратах высока, жизненно необходима. А российских аналогов нет. И чтобы поставить производство на поток, нужны не месяцы — нужно переориентировать всю фармацевтическую промышленность.
Что касается обычных препаратов, то, безусловно, они никуда не пропадают, но становятся дороже.
— Так получилось, что с 3 по 8 марта я с женой был в Ереване — у нас была давно запланированная поездка. И оттуда мы привезли почти восемь килограммов лекарств — тех, которые, было ясно, быстро закончатся на фоне паники.
L-тироксин, потому что было очевидно, что он будет пропадать — запрос на него велик, а российских аналогов не так много, они в основном западные.
Варфарин — по сути, жизнеспасающий аптечный препарат. Исчезновение варфарина на длительный срок может быть смертельным, например, для человека с искусственным клапаном сердца. Такой сотрудник есть в клинике у моей жены.
Куча антидепрессантов, вообще всяких психотропных препаратов.
У нас было два обычных рюкзачка, и один из них полностью представлял собой аптеку. Почти все сувениры, которые мы привезли, это были лекарства.
— Я так понимаю, что у нас программное обеспечение для МРТ-машин, для всей медицинской техники — зарубежное…
— Российских МР-томографов не существует вообще. Раньше я всегда говорил: в моей операционной есть только несколько импортозамещенных вещей — это люди. Пациент и мы все. Все остальное — не импортозамещенное.
За последние годы ситуация несколько поменялась — сейчас существует, например, российская хирургическая нить. Или какие-то не сложные расходные материалы, типа гемостатического воска, гемостатических губок.
Но вот то большое, что мы видим в операционной: микроскопы, эндоскопы, сложные модельные операционные столы, качественные С-дуги, весь сложный микроинструментарий — это, безусловно, Запад. Или сделанное по западным технологиям, скажем, в Индии, в Пакистане.
Я ничего не имею против того, чтобы в России были свои МР-томографы, микроскопы. И буду счастлив, если появятся какие-то стартапы, которые будут предлагать врачам поучаствовать в качестве экспертов. Я с удовольствием в этом во всем поучаствую.
В нашей профессии основополагающим принципом является непричинение вреда и причинение пользы пациенту. Поэтому мне все равно, из чего сделано и кем изделие, которое я использую. Мне неважно, кто были эти люди этнически, каких политических взглядов они придерживались, верили они в какого-то Бога или не верили, а если верили, то в какого. Мне нужно, чтобы это в конкретный час и день сошлось в моих руках. Так, чтобы я помог человеку и желательно не убил его и не покалечил.
Я не умею конструировать микроскопы. Более того, ни одна страна не умеет конструировать микроскопы. Все большие производства всего медицинского — интернациональные.
Поэтому, когда кто-то апеллирует сейчас к врачам и говорит, ну вы должны быть, скажем, патриотами, вы должны ратовать за российское производство… Когда я в операционной, я не желаю быть ни патриотом, ни антипатриотом — никем. Мне нужно только, чтобы то, что я держу в руках, помогало пациенту, согражданам, как бы это пафосно ни прозвучало.
И я рассчитываю, что каким-то образом государство обеспечит меня этим — чтобы я свои клятвы [Гиппократа] не нарушал. Дайте мне, а где оно появится, за какие деньги — я не знаю. Будет оно чужое, будет оно наше… Если оно будет наше — отлично, давайте сделаем, но вы дайте мне это в руки.
Я думаю, это единственный трезвый подход к этой ситуации.
— Алексей, что с наукой сейчас происходит? Сейчас такая cancel culture случилась…
— Уже больше двух лет научная жизнь в мире, и в России в частности, и так находится не в самых простых условиях — из-за пандемии. Медицина — это чрезвычайно интернациональная наука. У врача должно быть комьюнити. Для того, чтобы практиковать, важно периодически встречаться и вместе что-то делать.
Я думаю, что сейчас влияние санкций на науку и образование — это самая печальная, грустная и убивающая история. Только это не видно так легко, как исчезновение лекарства или удорожание какого-нибудь винта или эндопротеза.
Россия — это страна, интегрированная в мировую науку. В последние десятилетия, может быть, это делалось не так быстро и не так эффективно, как хотелось бы. Но в целом российские врачи интегрировались. Я состою во множестве международных спинальных ассоциаций.
— Как-то вы даже говорили, что сейчас спинальная хирургия в России опережает во многом другие страны.
— У нас есть некоторые технологии, есть много отваги, которая делает их очень интересными. И я помню, что на последних медицинских конгрессах до ковида бывали даже секции российской спинальной ассоциации, на них собиралось огромное количество людей, потому что всем было интересно, что мы делаем.
Если ты хочешь научиться делать что-то достаточно уникальное, то самый простой способ — это поехать на курсы. Они могут платными, дорогими. Или это может быть договоренность — ты просто пишешь человеку: «Я хочу прийти, ассистировать, можно ли?» Многие идут навстречу.
Сразу скажу, что не приемлю никаких комментариев от людей, которые говорят, что это непатриотично и нужно все делать в своей стране. Как я уже говорил, все нужно делать для своих пациентов.
Если я знаю, что какой-то человек делает что-то, чему я хочу научиться, чтобы помогать моим согражданам — по-моему, это более чем патриотично.
К нам приезжали учиться из-за рубежа. У нас организовывались множество конференций. Российская нейрохирургия была очень имплементирована в мировую.
Как это будет выглядеть сейчас — я не знаю. Потому что мне не очень понятно, как далеко зайдет cancel culture в отношении врачей. Лично я с ней пока не столкнулся. Меня ни из какой ассоциации не отчислили, ни в какой международный журнал доступ не закрыли. Если я пишу своим коллегам из-за рубежа, мне скорее высказывают поддержку и сочувствие. Я не встретился ни с одним агрессивным комментарием из-за того, что я россиянин.
Но, во-первых, мы не знаем, что будет дальше. Во-вторых, все-таки я — человек, который что-то наработал.
Я знаю, что многие из людей, которые сейчас заканчивают медицинские факультеты, вдруг резко задумываются об отъезде или уже уезжают только потому, что не хотят быть в изолированном, неинтернациональном медицинском сообществе. Я сейчас даже не про политику. Именно в медицинском сообществе.
Это очень плохо, потому что эта образовательная деградация неминуемо приведет к деградации практики. В какой-то момент навыки, которые мы можем передать друг другу, которым мы можем научиться друг у друга, закончатся. Нам нужно будет откуда-то их черпать.
И если эта изоляция будет серьезной, то скажется на помощи людям. Просто это будет ухудшаться очень медленно.
В России нужно было публиковаться в международных индексированных журналах Scopus, Science. С одной стороны, я понимаю последнее распоряжение правительства, которое делает это необязательным для научных индикаторов, для финансирования науки — появляются опасения, что тебя не опубликуют, потому что ты россиянин. А если так — то это форс-мажор, непреодолимые обстоятельства, значит, ты должен все равно получать [финансирование].
Но я боюсь, что такое решение может на годы усложнить именно научное взаимодействие и мотивацию, которая долго создавалась государством, — мотивацию делать качественное исследование зарубежного уровня.
Без качественных клинических исследований медицина невозможна. Она будет отмирать и возвращаться на уровень нулевых, 90-х, 80-х.
И это опять же не будет видно тотчас. Это медленный деструктивный процесс. Я надеюсь, что будет что-то придумано, что-то будет сделано или, наоборот, что-то остановят, чтобы этого не случилось.
— Что сейчас нам надо понимать про медицину? Простому человеку сейчас что делать?
— Во-первых, успокоиться. Потому что паника — это плохой друг. Успокоиться в той степени, в которой позволяют собственные моральные устои. Так, чтобы не делать бессмысленных резких телодвижений ни в какую сторону.
Это очень важно для психического и физического здоровья. Медицина не так хорошо знает, какими механизмами стресс влияет на болезни, но гигантское количество исследований показывает, что он укорачивает жизнь и ухудшает ее. Поэтому, насколько можно, попытайтесь его минимизировать.
Во-вторых, нужно заботиться о своем здоровье. В любых сложных временах ресурсы, которыми мы располагаем, сжимаются: до ресурсов себя, семьи, друзей, детей, зверей. Сейчас не то время, когда можно не лечить что-то, оставляя на потом. Потому что ты не знаешь, как будет выглядеть это потом.
Поэтому: здоровый образ жизни, по возможности, нормальное питание, коррекция своих вредных привычек.
Третье — людям, которым нужны лекарства, стоит делать запасы. Особенно если понятно, что дженерики не могут заменить оригинальные препараты.
Касательно страховок. Мне кажется, что ситуация настолько деструктивно повлияет на рынок ДМС, что это то, на что бы я вообще не рассчитывал. Хотя, наверное, иметь какой-то минимальный полис имеет смысл.
Но, на мой взгляд, сейчас тот период, когда нужно внимательно следить за медицинским сообществом — представлять, к кому куда можно обратиться в случае чего.
Есть социальные сети. Все врачи сейчас достаточно публичные. Абсолютное большинство находятся в России, они не уехали.
Мир усложнился, но мы остались.
— Сейчас общество очень сильно поляризовано. Мы видим, как текущие события буквально разъединяют семьи. Как это отражается на работе врача?
— Мне несказанно повезло с профессией, потому что те жуткие неразрешимые этические парадигмы, которые стоят перед журналистами, политиками, в каком-то смысле перед преподавателями, особенно высшей школы, не стоят перед тремя историческими категориями людей, которые закреплены еще в средневековых институтах. Это врачи, священники и юристы.
Общество поляризовано и невротизировано. С 24 февраля я не видел у себя в кабинете ни одного спокойного человека. Им даже не обязательно об этом говорить — я могу по тому, как человек заходит, понять, насколько он находится в стрессе. Я практически не вижу людей, которые не в стрессе. Независимо от того, какую позицию они поддерживают.
И единственный способ продолжать сохранять себя в этой профессии и себя как целостную личность я вижу в том, чтобы помогать всем одинаково. Спешу расстроить, я это делаю не из большого человеколюбия, которым я не обладаю. Делаю это я из-за преклонения перед пафосом собственной личности. Я оцениваю, что этот путь стоить будет дороже, чем растратить себя на то, чтобы выгнать из кабинета человека, который поддерживает что-нибудь плохое, чего я не поддерживаю.
Я думаю, что сейчас абсолютно спокойным может быть только очень глупый либо очень аморальный человек. И я тоже должен разделять внутри себя добро от зла.
Поэтому сейчас, наверное, впервые в моей жизни, появились моменты, когда мне нужно иногда сделать усилие, чтобы относиться ко всем людям одинаково морально. Но безусловно, я буду и далее эти усилия внутри себя культивировать.
— У вас большой опыт экстремальных ситуаций?
— У меня было много экстремальных ситуаций в жизни. Я потерял много близких, я терял их тяжело и, в том числе, в очень раннем возрасте.
Хирургия связана с экстремальными ситуациями. У меня были и будут какие-то ошибки, заблуждения, которые могут быть опасны для моих пациентов. И стоить кому-то из них здоровья. По большому счету, при нынешнем законодательстве каждая моя операция, закончившаяся не вполне удачно, может, как минимум, закончиться отсутствием меня в профессии, а максимум — тюремным сроком.
Я хожу в горы, я тонул один раз. Падал с высоты. Много бывал в регионах, где есть опасные животные. Скажем, на Камчатке в одной из экспедиций мы видели 20, 30, 40 медведей в сутки. Они жили около нашей палатки, их нужно было иногда отгонять.
В похожей ситуации я, пожалуй, не был. Она касается абсолютно всех, и притом продлена во времени. И что меня особенно в ней невротизирует — она касается поколения, которое будет за мной, моего ребенка, которому четыре года, его детей. Это некий коренной слом жизни, который не оставляет меня равнодушным.
Но в то же время, может быть, в том, что она общая, есть некоторый плюс. Вдруг оказывается, что людей, с которыми ты можешь поделиться и которые близки тебе по позиции, несколько больше, чем казалось раньше. Я, например, пришел именно к такому выводу.
Кроме того, одна из проблем этой ситуации заключается в том, что, во-первых, она поднимает чувство вины и ответственности. Во-вторых, она протекает в известной степени вне моей воли.
То есть, когда ты, например, идешь и видишь лавиноопасный участок, существует ряд действий, которые рационально помогут тебе уменьшить свои риски. Есть правила, как не попасть в лавину и что делать, попав в лавину.
Более того, известно, что делать, когда тебя уже засыпало лавиной. Это не конец. Ничто не конец. Ничто не конец, кроме конца. Непоправима только смерть. Ни одна ситуация не является абсолютно безвыходной.
То, что происходит, безусловно, стресс. Для меня в известной степени. Но одна из вещей, которая меня держит, это, конечно, профессия. Врачи — люди, которые имеют внутри себя нравственный стержень. И он крепче, чем многое, даже ужасное, что происходит вокруг нас.
Он добавил, что если этого не будет, то в какой-то момент навыки, которые российские специалисты могут передать друг другу, закончатся. Тогда нужно будет откуда-то их черпать. Кащеев уверен, что в медицине не может быть патриотов или антипатриотов. Если врачу надо спасти человека, то ему всё равно, кто сделал оборудование, которое помогает ему это сделать.
«То, что происходит, безусловно, стресс. Для меня в известной степени. Но одна из вещей, которая меня держит, это, конечно, профессия. Врачи — люди, которые имеют внутри себя нравственный стержень. И он крепче, чем многое, даже ужасное, что происходит вокруг нас», – заключил доктор.
Подробнее – в интервью «Правмиру».
— Алексей, вопрос, который всех сейчас волнует: что будет с медициной?
— Определенно ничего ужасного и катастрофического не будет. Система здравоохранения любой страны обладает достаточно большим запасом устойчивости — это во-первых.
Во-вторых, как мы убедились в период ковида, российская система здравоохранения обладает лучшим умением реагировать на острые ситуации, чем на хронические. Она лучше умеет развертывать госпитали, чем обеспечивать производство лекарств для детей с орфанными заболеваниями.
Так что медицина будет, никуда не денется. Но условия, в которых мы находимся, несомненно, меняются. Не в сторону чего-то ужасного, а в сторону усложнения процесса.
Медицина, по всем представлениям западного мира, а мы живем в западном мире, хотим мы этого или нет, — гуманитарная и транснациональная.
Именно поэтому нигде, насколько я знаю, не вводились санкции против ввоза лекарственных средств, медицинского оборудования, расходных материалов. И сейчас в Россию это все тоже ввозится.
Но, во-первых, все стало дороже, причем зачастую кратно дороже. Во-вторых, появилась проблема логистики. Большинство транспортных хабов, которые ввозят медицинскую расходку, находятся в Европе. Из нее сейчас физически не может выехать машина, поэтому логистические цепочки усложняются, разрываются. Это удорожает конечный продукт для потребителя: коим является в государственной медицине — государство, а в частной медицине — пациент или страховые компании.
— Уже были сообщения, что есть перебои с поставками лекарств, но они в основном не подтвердились. Медицинские компании продолжают поставки жизненно важных препаратов?
— Ресурс жизненно важных препаратов сформирован примерно на 8–12 месяцев, так говорит нам Минздрав, в данном случае у меня нет никаких оснований ему не доверять. Я не видел исчезновения жизненно важных препаратов ни из нашей клиники, ни из [клиник] коллег.
Сейчас периодически бывают сложности именно с поставками — вдруг оказывается, что что-то вот-вот кончится. Но эти проблемы всегда решаемы, это именно логистические сложности.
В более трудной ситуации находятся люди, работающие с дорогостоящими препаратами, которые в России либо в принципе не производятся, либо производятся исключительно из иностранных субстанций. Это препараты для лечения онкопатологии, некоторые моноклональные антитела, препараты для лечения орфанных заболеваний.
Вот тут ситуация действительно сложна, потому что потребность в таких препаратах высока, жизненно необходима. А российских аналогов нет. И чтобы поставить производство на поток, нужны не месяцы — нужно переориентировать всю фармацевтическую промышленность.
Что касается обычных препаратов, то, безусловно, они никуда не пропадают, но становятся дороже.
— Так получилось, что с 3 по 8 марта я с женой был в Ереване — у нас была давно запланированная поездка. И оттуда мы привезли почти восемь килограммов лекарств — тех, которые, было ясно, быстро закончатся на фоне паники.
L-тироксин, потому что было очевидно, что он будет пропадать — запрос на него велик, а российских аналогов не так много, они в основном западные.
Варфарин — по сути, жизнеспасающий аптечный препарат. Исчезновение варфарина на длительный срок может быть смертельным, например, для человека с искусственным клапаном сердца. Такой сотрудник есть в клинике у моей жены.
Куча антидепрессантов, вообще всяких психотропных препаратов.
У нас было два обычных рюкзачка, и один из них полностью представлял собой аптеку. Почти все сувениры, которые мы привезли, это были лекарства.
— Я так понимаю, что у нас программное обеспечение для МРТ-машин, для всей медицинской техники — зарубежное…
— Российских МР-томографов не существует вообще. Раньше я всегда говорил: в моей операционной есть только несколько импортозамещенных вещей — это люди. Пациент и мы все. Все остальное — не импортозамещенное.
За последние годы ситуация несколько поменялась — сейчас существует, например, российская хирургическая нить. Или какие-то не сложные расходные материалы, типа гемостатического воска, гемостатических губок.
Но вот то большое, что мы видим в операционной: микроскопы, эндоскопы, сложные модельные операционные столы, качественные С-дуги, весь сложный микроинструментарий — это, безусловно, Запад. Или сделанное по западным технологиям, скажем, в Индии, в Пакистане.
Я ничего не имею против того, чтобы в России были свои МР-томографы, микроскопы. И буду счастлив, если появятся какие-то стартапы, которые будут предлагать врачам поучаствовать в качестве экспертов. Я с удовольствием в этом во всем поучаствую.
В нашей профессии основополагающим принципом является непричинение вреда и причинение пользы пациенту. Поэтому мне все равно, из чего сделано и кем изделие, которое я использую. Мне неважно, кто были эти люди этнически, каких политических взглядов они придерживались, верили они в какого-то Бога или не верили, а если верили, то в какого. Мне нужно, чтобы это в конкретный час и день сошлось в моих руках. Так, чтобы я помог человеку и желательно не убил его и не покалечил.
Я не умею конструировать микроскопы. Более того, ни одна страна не умеет конструировать микроскопы. Все большие производства всего медицинского — интернациональные.
Поэтому, когда кто-то апеллирует сейчас к врачам и говорит, ну вы должны быть, скажем, патриотами, вы должны ратовать за российское производство… Когда я в операционной, я не желаю быть ни патриотом, ни антипатриотом — никем. Мне нужно только, чтобы то, что я держу в руках, помогало пациенту, согражданам, как бы это пафосно ни прозвучало.
И я рассчитываю, что каким-то образом государство обеспечит меня этим — чтобы я свои клятвы [Гиппократа] не нарушал. Дайте мне, а где оно появится, за какие деньги — я не знаю. Будет оно чужое, будет оно наше… Если оно будет наше — отлично, давайте сделаем, но вы дайте мне это в руки.
Я думаю, это единственный трезвый подход к этой ситуации.
— Алексей, что с наукой сейчас происходит? Сейчас такая cancel culture случилась…
— Уже больше двух лет научная жизнь в мире, и в России в частности, и так находится не в самых простых условиях — из-за пандемии. Медицина — это чрезвычайно интернациональная наука. У врача должно быть комьюнити. Для того, чтобы практиковать, важно периодически встречаться и вместе что-то делать.
Я думаю, что сейчас влияние санкций на науку и образование — это самая печальная, грустная и убивающая история. Только это не видно так легко, как исчезновение лекарства или удорожание какого-нибудь винта или эндопротеза.
Россия — это страна, интегрированная в мировую науку. В последние десятилетия, может быть, это делалось не так быстро и не так эффективно, как хотелось бы. Но в целом российские врачи интегрировались. Я состою во множестве международных спинальных ассоциаций.
— Как-то вы даже говорили, что сейчас спинальная хирургия в России опережает во многом другие страны.
— У нас есть некоторые технологии, есть много отваги, которая делает их очень интересными. И я помню, что на последних медицинских конгрессах до ковида бывали даже секции российской спинальной ассоциации, на них собиралось огромное количество людей, потому что всем было интересно, что мы делаем.
Если ты хочешь научиться делать что-то достаточно уникальное, то самый простой способ — это поехать на курсы. Они могут платными, дорогими. Или это может быть договоренность — ты просто пишешь человеку: «Я хочу прийти, ассистировать, можно ли?» Многие идут навстречу.
Сразу скажу, что не приемлю никаких комментариев от людей, которые говорят, что это непатриотично и нужно все делать в своей стране. Как я уже говорил, все нужно делать для своих пациентов.
Если я знаю, что какой-то человек делает что-то, чему я хочу научиться, чтобы помогать моим согражданам — по-моему, это более чем патриотично.
К нам приезжали учиться из-за рубежа. У нас организовывались множество конференций. Российская нейрохирургия была очень имплементирована в мировую.
Как это будет выглядеть сейчас — я не знаю. Потому что мне не очень понятно, как далеко зайдет cancel culture в отношении врачей. Лично я с ней пока не столкнулся. Меня ни из какой ассоциации не отчислили, ни в какой международный журнал доступ не закрыли. Если я пишу своим коллегам из-за рубежа, мне скорее высказывают поддержку и сочувствие. Я не встретился ни с одним агрессивным комментарием из-за того, что я россиянин.
Но, во-первых, мы не знаем, что будет дальше. Во-вторых, все-таки я — человек, который что-то наработал.
Я знаю, что многие из людей, которые сейчас заканчивают медицинские факультеты, вдруг резко задумываются об отъезде или уже уезжают только потому, что не хотят быть в изолированном, неинтернациональном медицинском сообществе. Я сейчас даже не про политику. Именно в медицинском сообществе.
Это очень плохо, потому что эта образовательная деградация неминуемо приведет к деградации практики. В какой-то момент навыки, которые мы можем передать друг другу, которым мы можем научиться друг у друга, закончатся. Нам нужно будет откуда-то их черпать.
И если эта изоляция будет серьезной, то скажется на помощи людям. Просто это будет ухудшаться очень медленно.
В России нужно было публиковаться в международных индексированных журналах Scopus, Science. С одной стороны, я понимаю последнее распоряжение правительства, которое делает это необязательным для научных индикаторов, для финансирования науки — появляются опасения, что тебя не опубликуют, потому что ты россиянин. А если так — то это форс-мажор, непреодолимые обстоятельства, значит, ты должен все равно получать [финансирование].
Но я боюсь, что такое решение может на годы усложнить именно научное взаимодействие и мотивацию, которая долго создавалась государством, — мотивацию делать качественное исследование зарубежного уровня.
Без качественных клинических исследований медицина невозможна. Она будет отмирать и возвращаться на уровень нулевых, 90-х, 80-х.
И это опять же не будет видно тотчас. Это медленный деструктивный процесс. Я надеюсь, что будет что-то придумано, что-то будет сделано или, наоборот, что-то остановят, чтобы этого не случилось.
— Что сейчас нам надо понимать про медицину? Простому человеку сейчас что делать?
— Во-первых, успокоиться. Потому что паника — это плохой друг. Успокоиться в той степени, в которой позволяют собственные моральные устои. Так, чтобы не делать бессмысленных резких телодвижений ни в какую сторону.
Это очень важно для психического и физического здоровья. Медицина не так хорошо знает, какими механизмами стресс влияет на болезни, но гигантское количество исследований показывает, что он укорачивает жизнь и ухудшает ее. Поэтому, насколько можно, попытайтесь его минимизировать.
Во-вторых, нужно заботиться о своем здоровье. В любых сложных временах ресурсы, которыми мы располагаем, сжимаются: до ресурсов себя, семьи, друзей, детей, зверей. Сейчас не то время, когда можно не лечить что-то, оставляя на потом. Потому что ты не знаешь, как будет выглядеть это потом.
Поэтому: здоровый образ жизни, по возможности, нормальное питание, коррекция своих вредных привычек.
Третье — людям, которым нужны лекарства, стоит делать запасы. Особенно если понятно, что дженерики не могут заменить оригинальные препараты.
Касательно страховок. Мне кажется, что ситуация настолько деструктивно повлияет на рынок ДМС, что это то, на что бы я вообще не рассчитывал. Хотя, наверное, иметь какой-то минимальный полис имеет смысл.
Но, на мой взгляд, сейчас тот период, когда нужно внимательно следить за медицинским сообществом — представлять, к кому куда можно обратиться в случае чего.
Есть социальные сети. Все врачи сейчас достаточно публичные. Абсолютное большинство находятся в России, они не уехали.
Мир усложнился, но мы остались.
— Сейчас общество очень сильно поляризовано. Мы видим, как текущие события буквально разъединяют семьи. Как это отражается на работе врача?
— Мне несказанно повезло с профессией, потому что те жуткие неразрешимые этические парадигмы, которые стоят перед журналистами, политиками, в каком-то смысле перед преподавателями, особенно высшей школы, не стоят перед тремя историческими категориями людей, которые закреплены еще в средневековых институтах. Это врачи, священники и юристы.
Общество поляризовано и невротизировано. С 24 февраля я не видел у себя в кабинете ни одного спокойного человека. Им даже не обязательно об этом говорить — я могу по тому, как человек заходит, понять, насколько он находится в стрессе. Я практически не вижу людей, которые не в стрессе. Независимо от того, какую позицию они поддерживают.
И единственный способ продолжать сохранять себя в этой профессии и себя как целостную личность я вижу в том, чтобы помогать всем одинаково. Спешу расстроить, я это делаю не из большого человеколюбия, которым я не обладаю. Делаю это я из-за преклонения перед пафосом собственной личности. Я оцениваю, что этот путь стоить будет дороже, чем растратить себя на то, чтобы выгнать из кабинета человека, который поддерживает что-нибудь плохое, чего я не поддерживаю.
Я думаю, что сейчас абсолютно спокойным может быть только очень глупый либо очень аморальный человек. И я тоже должен разделять внутри себя добро от зла.
Поэтому сейчас, наверное, впервые в моей жизни, появились моменты, когда мне нужно иногда сделать усилие, чтобы относиться ко всем людям одинаково морально. Но безусловно, я буду и далее эти усилия внутри себя культивировать.
— У вас большой опыт экстремальных ситуаций?
— У меня было много экстремальных ситуаций в жизни. Я потерял много близких, я терял их тяжело и, в том числе, в очень раннем возрасте.
Хирургия связана с экстремальными ситуациями. У меня были и будут какие-то ошибки, заблуждения, которые могут быть опасны для моих пациентов. И стоить кому-то из них здоровья. По большому счету, при нынешнем законодательстве каждая моя операция, закончившаяся не вполне удачно, может, как минимум, закончиться отсутствием меня в профессии, а максимум — тюремным сроком.
Я хожу в горы, я тонул один раз. Падал с высоты. Много бывал в регионах, где есть опасные животные. Скажем, на Камчатке в одной из экспедиций мы видели 20, 30, 40 медведей в сутки. Они жили около нашей палатки, их нужно было иногда отгонять.
В похожей ситуации я, пожалуй, не был. Она касается абсолютно всех, и притом продлена во времени. И что меня особенно в ней невротизирует — она касается поколения, которое будет за мной, моего ребенка, которому четыре года, его детей. Это некий коренной слом жизни, который не оставляет меня равнодушным.
Но в то же время, может быть, в том, что она общая, есть некоторый плюс. Вдруг оказывается, что людей, с которыми ты можешь поделиться и которые близки тебе по позиции, несколько больше, чем казалось раньше. Я, например, пришел именно к такому выводу.
Кроме того, одна из проблем этой ситуации заключается в том, что, во-первых, она поднимает чувство вины и ответственности. Во-вторых, она протекает в известной степени вне моей воли.
То есть, когда ты, например, идешь и видишь лавиноопасный участок, существует ряд действий, которые рационально помогут тебе уменьшить свои риски. Есть правила, как не попасть в лавину и что делать, попав в лавину.
Более того, известно, что делать, когда тебя уже засыпало лавиной. Это не конец. Ничто не конец. Ничто не конец, кроме конца. Непоправима только смерть. Ни одна ситуация не является абсолютно безвыходной.
То, что происходит, безусловно, стресс. Для меня в известной степени. Но одна из вещей, которая меня держит, это, конечно, профессия. Врачи — люди, которые имеют внутри себя нравственный стержень. И он крепче, чем многое, даже ужасное, что происходит вокруг нас.